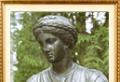Иерей Александр Пальчевский:»История несторианства в IV-VIII вв. Значение слова несторианство в православной энциклопедии древо Движение еретиков несториане суть
Это фрагмент гораздо более крупной главы, пока еще черновика рукописи к книге о "православных" мифах об ААЦ. Всего сейчас не представляю.. Все, о чем тут написано, я уже многократно у себя в ЖЖ обсуждал. Просто возник новый повод высказаться о Несторианстве, так счел, что проще выставить готовый материал, чем писать специально...
___________________
Начало «православного» мифа. Ложь о несторианстве.
Как свидетельствует выше изложенная «православная» история возникновения и распространения монофизитства, христологические споры начались с проповеди Нестория, якобы учившего о двух личностях во Христе, что богословским языком излагалось как «две ипостаси и два лица». И именно с этого начинается «православный» богословский подлог и искажение истории Церкви. На самом деле, Несторий, как последователь знаменитой Антиохийской богословской школы, ничему подобному не учил. Никаких «двух лиц» и никаких «двух личностей» в учении Нестория не было. Смысл антиохийского богословия сводился только к защите евангельской веры в то, что Христос был не только Богом, но и человеком. Это учение действительно отстаивало исповедание двух ипостасей, поскольку, согласно антиохийскому пониманию, подлинное человечество и подлинное божество возможны только в ипостасях человека и Бога. Если Христос совершенный человек, то Он должен иметь человеческую ипостась - то самое в чем реально проявляется человеческая природа и без чего природы просто не может быть. Для Нестория и его учителей, если во Христе не было человеческой ипостаси, то человеком Он быть не мог. Исповедание несторианами двух ипостасей не вело к исповеданию двух личностей, потому что то, что можно было бы условно назвать «личностным центром» Христа виделось антиохийцами не в ипостасях, а в лице, которое исповедовалось одно! Две ипостаси - Бога и человека, соединялись в одном лице Богочеловека Иисуса Христа, с Его одним личностным самосознанием, с Его одной личностной волей.
Конфликт же возникал из-за того, что антиохийцы не могли признать возможным соединения Божества и человечества в одну ипостась, на чем настаивали представители не менее знаменитой Александрийской богословской школы во главе со святым Кириллом. В то время как Несторий не допускал возможности рождения Бога от Девы, но настаивал, что от земной Матери мог родиться только человек, Кирилл настаивал, что рожденный от Девы есть сам Бог Слово воплощенный (Иоан.1:1,14). Только в таком случае Кирилл мог признать, что совершилось истинное, а не мнимое Боговоплощение, и что нет во Христе раздвоенности. То есть, разница двух доктрин была не в том, что одна учила об одной личности, а другая о двух. Разница была в том, что антиохийское богословие видело единого Христа, Который и Бог и человек в одном лице, как соединение Бога и человека, а александрийское богословие видело Того же единого Христа, который и Бог и человек, как Бога ставшего человеком. И естественно, что обе партии воспринимали учение оппонентов как поврежденное и еретическое. Кирилл подозревал несториан в разделении Христа на двух Сынов, а несториане подозревали Кирилла в отвержении подлинного человечества во Христе.
Богословская терминология.
Невозможность признания двух ипостасей во Христе, для Кирилла помимо всего прочего, обосновывалось установившейся в Церкви усилиями отцов каппадокийцев богословской терминологией. Как тогда, так и сегодня, в богословских концепциях использовались четыре термина - сущность, ипостась, лицо и природа. В тринитарном богословии (учение о Троице), откуда позже терминология была перенесена в христологию (учение о Христе), сущность и ипостась были основными терминами:
Сущность (грч. Усия, арм. Эутюн) - это то, что имеет бытие, то, что есть, имеющее реальное существование, субстанция, существо.
Ипостась (грч. Ипостасис, арм. Андз) - конкретный представитель своего вида. В приложении к человеку, это можно обозначить как субъект, особа, и даже личность.
Во времена тринитарных споров, эти термины еще не имели такого различия и обозначали одно и то же, то есть были синонимами. И когда в Церкви утверждался догмат о Пресвятой Троице и божественности Христа, это порождало множество богословских противоречий и даже ереси. Отцы Первого Вселенского собора в Никее составили догмат о единосущии Отца и Сына, смыл которого сводился к тому, что Отец и Сын не два разных существа, а одно существо Бога, чем защищалась монотеистическая вера в сочетании с верой во Христа как Бога. Но синонимичность терминов сущность и ипостась приводило к тому, что приходилось понимать смыл догмата в контексте, вне которого он мог быть истолкован еретически. Единосущие Бога могли понимать и как указание на то, что Бог одна ипостась (личность), что было ересью, или наоборот, исповедание трех ипостасей Отца, Сына и Святого Духа могло пониматься как исповедание трех Божественных существ. Это терминологическое недоразумение было устранено после Никейского собора великими отцами каппадокийцами, прежде всего, святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Они развели оба термина, ограничив смысл сущности как общего, как субстанции или существа вообще, без персонализации, а смысл ипостаси как частного и конкретного. С тех пор вера в Троицу получала свое окончательное богословское оформление, где Бог понимался как одна сущность (существо) и три ипостаси (личности). В приложении к человеку получалось, что сущность - это сам человек, но не кто-то конкретно, а вообще, как представитель биологического вида, а ипостасью является каждый конкретный человек, как то - человек Василий Иванов, человек Григорий Петров и так далее.
В христологии термин сущность уже применяться не мог, потому что во Христе не могли соединиться сущность Божества и сущность человека. По выше описанной каппадокийской терминологии сущность, в контексте человечества, указывала на человека вообще, без личностной конкретизации, а в контексте Божества на всю Троицу. Ни то ни другое не подходило для описания Христа, поскольку Он был конкретной личностью, и как Бог Сын, и как человек Иисус. То есть тут мог применяться только термин ипостась. Но даже не признание Христа конкретной Богочеловечесткой личностью было главным препятствием к использованию термина сущность в христологии. Дело в том, что Божественная сущность, которая по Никейской вере исповедуется в Отце, признается трансцендентной, то есть непостижимой, недоступной тварному миру и не имеющей с ним контакта. Об этом говорит апостол: «(Бог) единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1Тим.6:16). В том и был смысл Никейского догмата, что трансцендентный Бог Отец рождал из Своей сущности имманентное Слово, Которым творил миры и общался с человеком. Воплотиться мог именно Сын Божий, и только потому, что Он имманентная ипостась Божества, явленная в тварном мире: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоан.1:18).
Термин сущность стал применяться в христологии только в халкидонизме, под влиянием учения папы Римского Льва, что привело к отождествлению понятий сущность и природа. Такое отождествление было мотивированно еще и тем, что в трудах некоторых дохалкидонских отцов эти два термина, не будучи синонимами, использовались как взаимно заменяемые в определенном контексте слова. В свою очередь, отождествление сущности и природы привело к тому, что халкидониты стали отождествлять единосущие и единоприродие, таким образом, сделав Христа единосущным людям. Однако, исповедание единосущия Христа людям искажало изначальный смысл единосущия Троицы. Единосущие ставши единоприродием уже не могло указывать на единство существа Бога, но делало три ипостаси Божества отдельными Богами имеющими одну божественную природу, как это было в политеизме. По логике халкидонизма, Зевс, Гефест и Гермес единосущны друг другу, поскольку имеют одну божественную природу. А это означает только то, что борьба отцов никейцев за исповедание единосущия обессмыслена и память о них предана. Хотя, конечно же, сами халкидониты такого понимания не имеют и от Никейской веры формально не отрекаются, но при этом, в отождествлении сущности и природы проблемы не видят. Если древние отцы Церкви подразумевали под богословием описание Божественного человеческими категориями, то в халкидонизме этот принцип был нарушен, и все их противоречия снимаются тем, что одни и те же понятия обозначают совершенно разное по отношению к Богу и по отношению к людям. Но от этих всех, возникших уже после Халкидонского собора проблем, были равно далеки и Кирилл и Несторий, которые в основу своих различающихся христологических построений взяли один и тот же термин ипостась.
Помимо двух основных терминов сущность и ипостась, в тринитарном богословии использовался и термин Лицо (греч. Просопон, арм. Демк). Буквальный перевод (грч., лат., арм.) - маска, или лицо, как передняя часть головы. В богословском же смысле, лицо - это тот образ, которым ипостась (личность) являла себя во вне и отличалась от подобных же ипостасей. Термин лицо (маска) был использован еще древним еретиком Савеллием, который, не принимал христианскую веру в триипостасного Бога и, естественно, не различая сущности и ипостаси, учил, что Бог один по сущности-ипостаси (особы), но являл Себя людям в разное время под тремя лицами (масками). Эта ересь была Церковью отвергнута, но термин лицо, при всем своем прикладном значении, принят в вероисповедальную формулу тринитарного догмата - Пресвятая Троица, есть одна сущность, три ипостаси и три лица. Исходя из такого понимания терминологии, святой Кирилл Александрийский не мог согласиться с богословской конструкцией Нестория, где «личностный центр» Богочеловека Христа смещался с ипостаси, то есть с Самого Божественного Субъекта на Его лицо, то есть маску. В этом смысле, корявость несторианского богословия была очевидной, но иного варианта для утверждения подлинного человечества Христова, как исповедание двух ипостасей в одном лице, антиохийское богословие не видело. При том, что термины ипостась и лицо были взаимозаменяемы в соответствующем контексте, все же в дохалкидонском богословии они означали разные понятия. И Кириллу Александрийскому, понимающему под личностью ипостась, несторианское учение, говорившее о двух ипостасях во Христе, представлялось чудовищной ересью, разделяющей Христа надвое. Именно против этой несторианской раздвоенной природы Христовой он провозгласил свою знаменитую христологическую формулу, на все века ставшую знаменем Александрийской богословской школы: «Едина природа Бога Слово воплощенного». Для победивших в этой доктринальной войне александрийцев, эта формула была оружием победы, но и она же, впоследствии, дала повод халкидонитам объявить последователей святого Кирилла в отвержении человечества во Христе и созданию мифа о монофизитстве.
Значение «православного» мифа о двух лицах в несторианстве.
И тут можно задать вопрос - а с какой-такой целью халкидониты неправильно объясняют несторианскую веру, приписывая ей исповедание двух лиц во Христе? Может быть, они просто не знают, что в несторианстве при двух ипостасях исповедуется одно лицо? Наверное, можно согласиться, что простые люди, не только никогда не слышавшие от несториан их вероисповедания, но и не видевшие тех несториан в глаза, могут этого не знать. Но за что же едят свой хлеб профессиональные историки Церкви, различные «доктора богословия» и специалисты по Восточным Церквям? Они этого не знают, и, как и в случае с «армянским монофизитством» просто пересказывают враки своих средневековых «святых отцов»? Или все же знают, но сознательно лгут, скрывают правду? Знают, или не знают, это уже их дело и признак профессиональной компетентности. В любом случае, факт исповедания несторианами одного лица Богочеловека опасен и крайне неприятен для халкидонитского богословия, претендующего на статус Православного учения, преемствующего богословию святого Кирилла Александрийского и согласного с антинесторианским Третим Вселенским собором.
Причина дезинформации относительно веры несториан со стороны «православных» апологетов, вытекает из их собственного богословия и состоит в том, что претерпевшая трансформацию в халкидонизме богословская терминология отождествляет слова ипостась и лицо, делая их синонимами. То есть, халкидониты просто не могут сказать, что несториане исповедуя две ипостаси во Христе, исповедуют одно лицо. Для них это противоречие. Они, глядя на несторианство сквозь призму своей терминологии, говоря о двух ипостасях, вынуждены говорить и о двух лицах, поскольку для них это одно и то же. Но это только причина, лежащая на поверхности. Глубинный же смысл дезинформации о «двух лицах» в том, что «православные» богословы пытаются этим скрыть факт подобия халкидонской веры вере несторианской. Ведь апологеты халкидонизма желают представить свою христологию как «царский путь», как некую «золотую середину», между крайностями несторианства и монофизитства. В то время как монофизитство ими представляется в виде неправильной веры в одну природу и правильной веры в одно лицо, а несторианство, наоборот, в виде правильной веры в две природы и неправильной веры в два лица, халкидонизм подается как абсолютно правильная вера в две природы и одно лицо. И если вдруг окажется, что и несторианство как и халкидонизм учит двум природам и одному лицу, вся эта стройная картинка «православной» апологии рухнет как карточный домик. Тогда самим верующим РПЦ станет очевидным тот факт, что их родной халкидонизм, на самом деле, не есть «царский путь» и «православная середина» между двумя еретическими крайностями, а скорее является разновидностью проклятого на Третьем Вселенском соборе несторианства, в чем сторонников Халкидонского собора вот уже полтора тысячелетия упрекают их оппоненты!
Но кто-то может сказать: «Постойте, разве в греческом православии не исповедуется одна ипостась и одно лицо при двух природах?». И действительно, любой человек читавший «Православный катехизис» подтвердит, что халкидонитская христологическая формула, в отличие от несторианской, выглядит как «две природы, одна ипостась и одно лицо». Но в том то и дело, что это только ВЫГЛЯДИТ так, а на самом деле это совсем не так. Все дело в том, что данная формула является хитро завуалированным подлогом, и отражает не объективную реальность, но эксплуатирует рудиментарные представления халкидонитов об отличии ипостаси и лица. Вот только реального отличия между ипостасью и лицом в халкидонизме нет, а это значит, что там формула «одна ипостась и одно лицо» - не более чем тавтология. Если же отказаться от рудиментарного дублирования одного и того же понятия, то пункт «ипостаси» из халкидонитской формулы просто выпадает, а «лицо» становится «личностным центром самосознания», как в несторианстве. А это значит, что правильно халкидонитская формула должна была бы быть записана так же, как и формула несторианская - «две природы и одно лицо».
Но и на этом проблемы халкидонитской христологии не заканчиваются. Внимательный исследователь может заметить, что в дохалкидонской православной христологии центральным элементом исповедания является термин ипостась, то есть и конкретная субстанция субъекта, и его «личностный центр самосознания». Здесь вопросу природы оставляется некое, второстепенное, можно сказать, прикладное значение. В халкидонизме же, напротив, с фактическим исчезновением понятия ипостась, термин природа ставится во главу угла, становясь решающим элементом вероисповедания. И это не просто вопрос приоритетного выбора терминов. Это глобальная трансформация всего богословия. На самом деле, категория ипостаси не исчезает из халкидонской христологической конструкции, а просто «меняет одежду». В халкидонизме, ипостась, в ее дохалкидонском понимании (как «личностный центр самосознания» и конкретная субстанция), передав свое имя вместе с «личностным центром» лицу, сама, уже только в смысле обезличенной субстанции, берет на себя имя «природа». Открывается невероятно интересная метаморфоза! То, что в несторианстве понималось как ипостась, в халкидонизме начинает пониматься как природа, а потому, несторианские «две ипостаси» оказываются полным аналогом халкидонитских «двух природ». А в сочетании с тем, что «личностный центр» Христа и там и тут признается в едином лице, то несторианство и халкидонизм оказываются практически идентичными учениями. Этот факт объясняет, почему учение Халкидонского собора встретило такое ожесточенное неприятие на всем Востоке, в итоге было объявлено «восстановлением несторианской ереси» и отвергнуто.
Наряду с православием, католицизмом и протестантизмом к основным направлениям христианства относят также несторианство и монофизитство. Их называют «нехалкидонскими» , или «древними восточными церквями» .
Несторианство возникло в начале V в. Его основателем является антиохийский монах Несторий (?–451), занимавший в 428–431 гг. кафедру константинопольского патриарха. Согласно доктрине Нестория, Христос не был Сыном Божьим. Он был рожден от земной женщины как человек, лишь затем получил от Бога Отца свой божественный дар, и в нем соединились изначальная человеческая и божественная природы. Деву Марию Несторий называл не «Богородицей», а «Христородицей», что и послужило поводом к осуждению патриарха. На III Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. он был объявлен еретиком, лишен епископства и отправлен в ссылку. Тем не менее идеи ересиарха получили распространение среди христиан – ассирийцев, а в конце V в. в Персии была учреждена самостоятельная несторианская патриархия.
Несторианство признает авторитет только двух первых Вселенских соборов. Таинствами у несториан считаются крещение, священство, причащение, миропомазание, покаяние, а также имеющиеся только у них «святая закваска» и «крестное знамение». Таинство «святой закваски» основывается на предании, что кусочек хлеба, розданного на Тайной Вечере Иисусом Христом, был привезен апостолом Фаддеем (Иудой) на Восток, в Двуречье, и его частица постоянно присутствует при приготовлении элементов причастия. В богослужении используется старосирийский язык, убранство храмов лишено икон и статуй. Должности священников носят наследственный характер. Духовенство не придерживается целибата, может вступать в брак и после рукоположения.
Несторианство представлено Ассирийской церковью Востока. Возглавляет ее патриарх-католикос всего Востока, причем должность эта является наследственной. С 1976 г. патриархом является Мар Динкха IV, с резиденциями в Тегеране и штате Иллинойс. Ныне церковь переживает состояние раскола, другим ее центром является Багдад (патриарх Мар Аддай). Численность несториан – около 200 тыс. человек, проживающих главным образом в Ираке, Сирии, Иране, Индии. Параллельно с Ассирийской церковью Востока на той же территории существует отделившаяся от нее и находящаяся в унии с Ватиканом Халдейская католическая церковь.
Монофизитство (от от греч. monos – единственный и physis – природа) возникло в начале V в. в Византии. Его основателем считается настоятель одного из константинопольских монастырей Евтихий (ок. 379-454), который учил, что Христу присуща только одна, божественная природа. Эта доктрина была диаметрально противоположна взглядам Нестория, в осуждении которого Евтихий принял самое живое участие. На IV Вселенском соборе в Халкидоне в 451 г. еретическим было признано как несторианство, так и монофизитство. Согласно Евтихию, вначале раздельно существовали две природы Христа – Бога и человека, но в результате боговоплощения человеческое естество было полностью поглощено божественным. В дальнейшем сторонники монофизитства могли также либо вовсе отрицать какой-либо человеческий элемент в Христе, или утверждали, что человеческое и божественное соединилось в Христе в некую отличную от них, особую сущность. Монофизиты признают решения трех первых Вселенских соборов Их культовая практика близка к православной обрядности.
Численность монофизитов – около 36 млн человек. Действуют именующие себя православными Эфиопская церковь (более 20 млн верующих), Коптская церковь (Египет, около 8 млн коптов), Эритрейская церковь, Сирийская Яковитская церковь, Сирийская Маланкарская церковь (Индия), Армянская апостольская церковь и др. В разные периоды отдельные группы монофизитов заключили унию с католической церковью, в результате чего появились эфиопо-, копто-, сиро-, сиро-маланкаро- и армяно-католики.
К Армянской апостольской церкви принадлежит абсолютное большинство населения Армении и значительная часть армянской диаспоры (в США, России, Грузии, Франции, Сирии и др.), всего около 5 млн человек. Последователи этой церкви называют себя армяно-григорианами, что выводится от имени ее основателя – Григора Просветителя (240-332). Под влиянием Григора царь Тиридат III в 301 г. не только сам принял христианство, но и объявил новую религию государственной. Тем самым Армения стала первым в мире христианским государством. В V в. на армянский язык была переведена Библия, а с 506 г. существует самостоятельная Армяно-григорианская церковь. Мировым центром армяно-григориан является Эчмиадзинский монастырь (Республика Армения), где находится резиденция верховного патриарха-католикоса всех армян (с 1986 г. – Карекин I). С 2003 г. община Армянской апостольской церкви действует и в Беларуси.
На рубеже первого тысячелетия нашей эры самой распространенной как географически, так и численно христианской традицией являлось несторианство. Несторианские общины действовали на территории современного Ирака, Ирана, Индии, Афганистана, всей Центральной Азии, а также Китая и Японии. Это течение пользовалось такой популярностью, что появились легенды о христианских государствах в степях Сибири и Центральной Азии. Но, несмотря на это, в истории христианства Евразии этому уделяется немного внимания.
Пожалуй, одним из самых сложных вопросов в изучении несторианства является то, как его идентифицировать - как ересь, наравне с арианством, или как христианское течение, наравне с православием или католицизмом?
В основном, справочные материалы, представленные по этому вопросу, утверждают, что нестарианство возникло в 5 веке как учение Нестория, Константинопольского патриарха. Он умалил божественность Иисуса Христа, разделив Его божественную и человеческую природу. Такая точка зрения расходилась с ортодоксальным христианским учением и была осуждена на Эфесском соборе 431 года.
Однако, как утверждают другие историки, несторианство ошибочно связывается с Несторием и его ересью и, с точки зрения Халкидонского вероисповедания, является канонической христианской традицией. Кстати, сами несториане себя так не называют, их самоназвание - Церковь Востока или Ассирийская Церковь Востока. Более того, священнослужители указывают на апостольское происхождение своей церкви, которая была основана благодаря проповеди апостолов Петра и Фомы, тогда как епископ Несторий являлся только одним из почитаемых священнослужителей в этой церкви.
Третьи историки утверждают, что никакой ереси Несторий не провозглашал, а что это была борьба двух богословских школ - антиохийской, которую представлял Несторий, и александрийской, которая, не без политических интриг, получила поддержку императора в этом споре.
Помимо представленного христологического спора, практика церковной жизни несториан мало чем отличается от других течений христианства. Основными таинствами считается крещение и евхаристия, для Церкви Востока не свойственно почитание икон, а также установка статуй.
Как бы то ни было с точки зрения богословия, в 5 веке несторианство стало распространятся по всей Азии, продвигаясь в страны Шелкового пути. Спустя два века епархии действовали в Иране, Афганистане, Киргизии, Уйгурии, Узбекистане и Туркмении. В общей сложности действовало около 300 епархий.
Многие степные народы Сибири приняли несторианство, в том числе и вожди племенных союзов. Как полагал историк Лев Гумилев, распространение этого течения послужило появлению легенды о христианском царстве пресвитера Иоанна, которая пользовалась большой популярностью в Европе в средние века.
Русские средневековые княжества также были очень хорошо знакомы с несторианством. Их соседи половцы, особенно знать и купечество, исповедовали именно несторианство. В разные периоды русское православие относилось то лояльно, то враждебно к этому течению. Однако, есть исторические свидетельства, что половецких ханш-несторианок, выходивших замуж за русских князей-православных, не перекрещивали. Более того, один из русских княжеских родов - Черниговский (бывший в тесном родстве с половцами) явно симпатизировал несторианству, хотя разрыва с православием никогда не было.
Начав завоевание народов Средней Азии и Сибири, империя Чингисхана поглотила многие племена, исповедовавшие несторианство. По некоторым данным, войско Великого хана состояло на одну треть из степняков-несториан.
Некоторые потомки великого хана, симпатизировавшие этому течению благодаря своим матерям-несторианкам, оказывали покровительство священниками и способствовали распространению Церкви Востока на новых территориях. Как утверждает Лев Гумилев, правители Золотой Орды до принятия ислама наиболее благосклонно относились к несторианству, особенно ханы Гаюк и Бату.
Однако уже в Средневековье преимущественно под давлением ислама несторианство стало вытесняться из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Многие христиане-несториане были убиты из-за отказа принять ислам. В ряде регионов Церковь Востока слилась с другими течениями христианства.
На сегодняшний день несторианство представлено Ассирийской церковью Востока, чьи последователи проживают в Ираке, Иране, Индии и Сирии. Ориентировочно, общая численность несториан составляет порядка 400 тысяч верующих.
НЕСТОРИАНСТВО, одно из 5 основных направлений христианства. Возникло в начале V в. н. э. Основателем является монах Несторий, ставший на короткое время в 428-431 константинопольским патриархом. Вероучение несторианства впитало в себя некоторые элементы осужденного на I Вселенском соборе христианской церкви (325) учения Ария, отвергавшего божественную природу Иисуса Христа.
Основным догматическим отличием несторианства от других ветвей христианства является его учение о том, что Христос не был сыном Божьим, а был человеком, в котором жил Бог, и что божественная и человеческая природы Иисуса Христа отделимы друг от друга. В связи с таким взглядом, мать Христа - дева Мария считается у несториан не Богородицей, а Христородицей и не является объектом почитания. На III Вселенском (Эфесском) соборе (431) вероучение Нестория было осуждено как ересь, сам он сослан, а его книги сожжены.
Как и в православии, монофиситстве и католицизме, в несторианстве признаются 7 таинств, однако не все из них идентичны тем, которые приняты 3 указанными направлениями христианства. Таинствами у несториан считаются крещение, священство, причащение, миропомазание, покаяние, а также имеющиеся только у них святая закваска (малка) и крестное знамение. Таинство святой закваски связано с верой несториан в то, что кусочек хлеба, розданного на Последней Вечере Иисусом Христом, был привезён апостолом Фаддеем (Иудой) на Восток, в Двуречье, и какая-то частица его постоянно использовалась при приготовлении элементов причастия. Считающееся в несторианстве таинством крестное знамение совершается весьма специфичным образом.
Несториане используют в богослужении литургию св. Фаддея (апостола из 12) и св. Марка (апостола из 70), которую последние ввели, прибыв на Восток из Иерусалима. Литургия совершается на старосирийском языке (в его несторианском варианте). В несторианских храмах, в отличие от православных, монофиситских и католических, нет икон и статуй.
Возглавляет несториан имеющий резиденцию в Тегеране патриарх-католикос всего Востока (в настоящее время Мар-Динха IV), причём должность эта с 1350 является наследственной в семье Мар-Шимун (племянник наследует своему дяде). В 1972 в руководстве несторианской церкви произошёл раскол, и часть иракских и индийских несториан признала своим духовным главой Мар-Аддаи, местопребывание которого в Багдаде. Патриарху подчинены митрополиты и епископы. Должность священников тоже носит наследственный характер. Священники не обязаны соблюдать целибат и, в отличие от православного белого духовенства, могут вступать в брак и после рукоположения. Богослужения и обряды священникам помогают совершать диаконы.
Численность последователей несторианской Ассирийской церкви Востока - около 200 тыс. человек. Несториане расселены в
.В христианских спорах IV , V , VI веков проявлялись не только догматические противоречия различных богословских школ, но зачастую политические, социальные, экономические, даже этнические конфликты. Если в IV веке в ходе арианского спора это было еще не столь заметно, то в несторианско-монофизитских спорах, которые во многом характеризовали церковную жизнь последующих столетий, они уже проступают явно.
Несторианский спор имеет долгий пролог, который заключается в длившемся на протяжении десятилетий конфликте нескольких церковных кафедр на востоке. Традиционно со II века существовала конкуренция между двумя старейшими кафедрами Восточной Церкви: Антиохийской и Александрийской, которые оспаривали друг у друга первенство в восточном Средиземноморье. Появление в конце IV века третьей важнейшей кафедры – Константинопольской, которая с 381 года считалась самой значительной из восточных, резко смешало традиционную восточную церковную политику. Если Антиохийские иерархи не могли прямо выступить против Константинополя: сама Антиохийская Церковь была в это время расколота, то Александрийские иерархи очень и очень негативно восприняли тот факт, что кафедра святого Марка отодвигалась со второго места в церковном табеле о рангах на третье.
На протяжении всего конца IV и большей части V столетий Александрийские патриархи постоянно пытались либо подсидеть Константинопольских владык, либо поставить на Константинопольскую кафедру своего человека.
Первая скандальная история с попыткой Александрии навязать свою волю Константинополю связана с созывом Второго Вселенского Собора, когда Григорий Назианзин – один из великих каппадокийцев, в то время занимавший должность епископа Константинополя – очень радушно встретил египетскую делегацию во главе с Максимом Киником. И оказалось, что в то время как Григорий немного отвлекся, Максим Киник попытался подсидеть его. Был невероятный скандал. В общем, Григорий, не имея возможности справиться с этими противоречиями в Церкви, решил уйти с кафедры.
В следующий раз александрийцы активно вмешались в церковную жизнь Константинополя в конце IV – самом начале V века. Вмешательство было связано с именем знаменитого христианского проповедника, теолога, ритора Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст был представителем сирийского, то есть антиохийского, клира, и его посажение на столичный престол вызвало серьезное недовольство у Александрийского патриарха Феофила. Еще ярче Феофил проявил свое недовольство после того, как Иоанн Златоуст несколько необдуманно вмешался в оригенский спор, который на тот момент вызывал серьезные распри в Александрийской Церкви. Феофил сделал все, от него зависящее, чтобы низложить Иоанна Златоуста, и в итоге добился успеха. Как известно, знаменитый христианский проповедник умирает в изгнании.
Собственно, время правления Феофила и Кирилла в Александрийской Церкви – это время, когда Церковь в Египте становится более влиятельной, чем государственная власть. Знаменитый христианский писатель и аскет Исидор Пелусиот называл Феофила новым фараоном, потому что его власть в Египте вполне равнялась власти императорского августала.
Египет был очень важен для империи: он был житницей, и без египетского хлеба невозможно было кормить буйный столичный плебс. То есть тот, кто контролировал Египет, а точнее египетскую столицу Александрию, через которую проходила вся торговля, тот во многом контролировал империю.
И вот новые фараоны – египетские патриархи – старались навязать свою волю государственным структурам столицы. Понятно, что столице это не нравилось, и центральные власти с 20-х годов V века начинают искать противовес в ассирийском клире. И вот в 432 году Константинопольским патриархом назначается знаменитый сирийский аскет, ригорист, пламенный проповедник Несторий. Он развивает в столице бурную деятельность по противодействию еретикам. Если до этого те же самые ариане относительно спокойно жили в Константинополе, то Несторий организует на них настоящее гонение. Он говорит императору Феодосию: помоги мне избавиться от еретиков, и я освобожу тебя от забот с персами.
Несторий властно вмешивается в дела константинопольского монашества и, более того, начинает всерьез вмешиваться в дела Ассийской Церкви, то есть малазийских диоцезов. Это была каноническая территория Константинопольского патриархата, но присоединена совсем недавно, и потому местные митрополиты, например митрополит Эфесский, с большим неудовольствием смотрели, что эти столичные выскочки, которые еще недавно находились на дальних позициях в церковном табеле о рангах, стали так влиятельны и так нагло, с их точки зрения, распоряжаются делами Восточной Церкви.
Очень скоро резкость Нестория привела к тому, что он нажил себе довольно много врагов. Против него вооружились столичный клир, ассийские епископы. Его неоднозначная христология привела к конфликту с сестрой императора Феодосия II – весьма влиятельной особой Пульхерией.
Что же это была за неоднозначная христология? Несторий развивал традиции антиохийской школы и вполне логично предполагал, что от подобного может произойти только подобное. Таким образом, человек Богородица Мария не была Богородицей, потому что человек не может родить Бога – человек может родить только человека, и, следовательно, Марии стоит отказать в титуле Богородицы и заменить Ее титул на Христородицу. Это вызывает серьезные споры в Церкви. По сути Несторий говорит, что Иисус родился человеком, а Божественные качества приобрел лишь в ходе крещения Иоанном Предтечей, преображения на горе Фавор и воскресения после Голгофы.
За эту неоднозначную и во многом еретическую христологию Нестория, которая, правда, находилась вполне в русле сирийской богословской школы, ухватывается его оппонент Кирилл Александрийский, искавший повода уничтожить своего конкурента. Кирилл пишет двенадцать анафематизмов Несторию, то есть двенадцать теологических осуждений Константинопольского патриарха.
Спор назревает нешуточный, и император Феодосий II созывает в Эфесе в 431 году Третий Вселенский Собор, для того чтобы решить, кто прав: Константинопольский патриарх или патриарх Антиохийский. Несмотря на то, что император поддерживал Нестория, мы видим, что влиятельные силы при дворе, прежде всего окружение августы Пульхерии, делают все, чтобы Несторий проиграл этот церковный спор.
Во-первых, местом заседания Третьего Вселенского Собора объявляется Эфес. Согласно Церковному Преданию, Эфес был городом, в котором упокоилась Богородица, а, следовательно, он был местом культа почитания Богоматери. Епископ Эфеса Мамон по очевидным причинам не желал любого понижения статуса святой покровительницы города: это напрямую влияло и на его статус, и на доходы его епархии. Мемнон Эфесский объединяется с Кириллом Александрийским, и на Церковном Соборе они осуждают Нестория.
Но Собор оказывается нелегитимным: Кирилл, благодаря своему влиянию, открывает заседание Собора еще до того, как в Эфес прибывает делегация сирийского епископата во главе с патриархом Антиохийским Иоанном. Прибыв туда, делегаты обнаруживают своего ставленника Нестория и многих из своих сторонников в Сирии низложенными. Иоанн и Несторий открывают параллельное заседание Собора, на котором объявляют низложенными Кирилла Александрийского и епископа Мемнона Эфесского.
По сути Церковь оказывается разбита на две группировки. Между Египетской Церковью и Церковью Антиохийской пролегла глубокая борозда. Этот раскол был преодолен лишь через два года, когда обе стороны: Кирилл Александрийский и Иоанн Антиохийский смогли дать нейтральные формулировки, которые в общем удовлетворяли обе партии.
Восточные епископы пожертвовали Несторием, и его концепция двоичности природ во Христе, а точнее перетекания одной природы в другую, получила официальное религиозное осуждение. Впрочем, не были окончательно осуждены многие влиятельные сторонники Нестория, например, знаменитый епископ города Кир церковный писатель и экзегет Феодорит или епископ Эдессы. Ибо компромиссный вариант и компромиссное решение Эфесского Собора не устраивали обе партии.
Таких стойких несториан оставалось немного, но они оказываются влиятельными на границе империи – в Месопотамии. Поскольку несториане были осуждены, им начинает оказывать поддержку Сасанидская Персия. Та несторианская Церковь в дальнейшем – во второй половине V века становится официальной Персидской Церковью. Из Персии несториане распространяются в Индию, в Среднюю Азию и даже в Китай. В период позднего Средневековья несторианская Церковь будет официальной Церковью Уйгурского государства. От уйгур несторианство воспримут монголы. Например, сын Батыя – побратим Александра Невского Сартак будет как раз христианином несторианского толка. Сейчас существует небольшая несторианская община в Северном Ираке, которая называется Ассирийская Церковь Востока. В том числе она представлена в Москве.
Все это уже такое продолжение несторианского спора на окраинах Эйкумены, а также он продолжался в самой империи – об этом разговор пойдет особый.