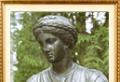Об иконописании в Сызрани конца XVIII-XIX веков. Альбом «Сызранские иконы Биография А.А
Ранней весной 2016 года мы совершили небольшую вылазку в город Сызрань. Сызрань — это второй по времени основания (1683 г.) город в нашей области. Изначально он создавался как очередной город-крепость на волжских берегах. Места здесь были степные, беспокойные, Самарскую крепость, построенную за сто лет до Сызрани, неоднократно осаждали кочевые племена. Сызранская крепость была возведена для укрепления здешних мест. Через несколько десятилетий на Средней Волге была построена еще одна крепость — Ставрополь.
Сызрань, как и другие волжские крепости, была построена на возвышенности у слияния двух рек, Сызранки и Крымзы, недалеко от места впадения Сызранки в Волгу. В отличие от Самары, здесь сохранился каменный Кремль, сейчас это одна из главных достопримечательностей города. Здесь же находится и старейший в наших местах Свято-Вознесенский мужской монастырь. В общем, в Сызрани есть что посмотреть.
Вознесенский монастырь — Сызранский Кремль — Краеведческий музей — Орловы-Давыдовы — Сызранская школа иконописи — Прогулка по историческому центру
Свой путь по Сызрани мы начали с Вознесенского монастыря, приехав сюда на такси от железнодорожного вокзала. После посещения монастыря мы прошли по берегу реки Сызранки к Кремлю, потом прогулялись по главной исторической улице Сызрани — Советской, и вернулись на вокзал. Получилась компактная, но насыщенная однодневная прогулка.
Как уже говорилось, Вознесенский мужской монастырь является старейшим монастырем Самарской области, он был основан в конце XVII века, почти сразу после постройки Сызранской крепости. Сохранившиеся каменные постройки в монастыре относятся в основном к середине XIX века, кроме церкви в честь Феодоровской иконы Божией матери, построенной в XVIII веке. Восстановительные работы в монастыре еще продолжаются.







История Свято-Вознесенского мужского монастыря тесно связана с чудотворной Феодоровской иконой Божий Матери Кашпирской. Это одна из главных святынь Самарской области. Икона была обретена в начале XVIII века на источнике около села Кашпир Сызранскаго уезда и два столетия пребывала в Вознесенском монастыре. Позднее она была перенесена в сызранский Казанский кафедральный собор, где и находится в настоящее время, а в монастыре хранится ее список.


По дороге к Кремлю мы заглянули ещё в один старинный сызранский храм — церковь Ильи Пророка. Сохранившиеся до наших дней каменное здание церкви относится концу XVIII века. Церковь красивая, очень спокойная и гармоничная внутри. К сожалению, фотографированию мешает плотная застройка вокруг нее.


Но вот наконец мы пришли в Сызранский Кремль — историческое сердце города. Для наших краев это большая достопримечательность, поскольку других крепостей-Кремлей в среднем и нижнем течении Волги не сохранилось.

Внутри Сызранского Кремля. Слева Спасская башня, справа церковь Рождества Христова. По центру — Казанский кафедральный собор, уже за пределами Кремля

Стены и башни Кремля были деревянными и только главная, воротная башня была построена из камня; она и сохранилась до наших дней. В середине XVIII века, с утратой военного значения сызранского Кремля, воротная башня была перестроена в церковь во имя Спаса Нерукотворного и стала, соответственно, называться Спасской башней. Изначально башня была двухъярусной, при перестройке в церковь к ней были пристроены еще два яруса и шатровая крыша. Получилась церковь довольно необычной формы, два «восьмерика» на двух «четвериках».
Вторая старинная церковь в Кремле — храм Рождества Христова, построенный в начале 18-го века. Он долгое время был кафедральным собором Сызрани, пока в середине XIX века не был построен новый Казанский Собор.




Под кремлевским холмом находится довольно большая набережная, как принято говорить, «излюбленное место отдыха горожан»…



Естественно, гуляя по Сызрани, мы не могли пройти мимо краеведческого музея, располагающегося в старинном купеческом особняке неподалеку от Кремля.
Музей произвел на нас приятное впечатление. Наряду с краеведческими материалами здесь неплохая художественная коллекция. Это и неудивительно, поскольку она представляет собой часть коллекции Орловых-Давыдовых, которая была передана сюда после революции из усадьбы Орловых в Усолье (о ней я когда-то ).






Как истинные любители музеев, мы попытались посетить еще один сызранский музей, но, к сожалению, эта попытка не удалась. Дело в том, что перед поездкой в Сызрань я, к своему удивлению, узнал, что здесь в XIX веке была иконописная школа со своим особым стилем. Поиск в интернете показал, что в Сызрани есть свой музей иконы. Именно его мы и пытались безуспешно найти, но по указанному адресу находились какие-то хозяйственные постройки. Работники краеведческого музея тоже не знали о существовании музея сызранской иконы. В общем, запутанная история…
Тем не менее тема нас заинтересовала, и мы постарались приложить некоторые усилия в этом направлении. Оказалось, что небольшая коллекция сызранской иконы представлена в Самарском художественном музее. Естественно, мы сходили в музей, и, как оказалось, наши усилия были потрачены не зря. Действительно, сызранская икона имеет свой, довольно интересный стиль.

Богоматерь Неопалимая Купина. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея
Особенности сызранской иконописной школы, безусловно, связаны с тем, что она создавалась старообрядцами. В XIX веке в русской иконе практически полностью восторжествовал живописный, академический стиль изображения. Старообрядцы же сохранили связь с канонической византийской школой, что явно видно по сызранским иконам. Однако здесь не было просто какого-то механического повторения образцов, в сызранской иконе очевидно присутствует свой особый живописный синтез. Для сызранских иконописцев характерна тонкая проработка деталей, что было не свойственно для канонической русской и византийской иконописи, но при этом сызранские мастера избегали и натурализма, свойственного академическому стилю. Экскурсовод в музее говорил о влиянии Палеха на сызранскую икону, однако специалисты скорее отрицают такую связь, и мы по своим впечатлениям склонны согласиться с ними. Палехские мастера ушли в яркую декоративность и внешнюю красивость, для лучших же образцов сызранской иконы свойственна сдержанность в красках и внутренняя глубина. Такое вот интересное явление…

Богоматерь Троеручица. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея. В боковых клеймах скорее всего изображены патрональные святые, тезоименные заказчику иконы и покровительствующие ему и его домочадцам. Это характерная черта старобрядческих икон, и, в частности сызранских.

Св. Иоанн Предтеча. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея

Богоматерь Всех скорбящих радость. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея

Семь отроков Эфесских. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея

Сретение Господне. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея

Распятие с предстоящими и четыре иконы Богоматери. Конец XIX — нач. XX вв. Из собрания Самарского художественного музея
Итак, потратив некоторое время на поиски так и не найденного нами музея сызранской иконы, мы вернулись к Кремлю и прошлись по главной торговой улице купеческой Сызрани — Большой, ныне Советской. Улица Советская представляет собой образец провинциальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Можно сказать, музей под открытым небом. Даже модерн имеется. В настоящее время большинство домов отреставрировано, приведено в порядок и выглядит вполне достойно. Жаль проводов многовато, мешают фотографированию, но это проблема всех провинциальных городов.

Сызранский обыватель
Однако наш день в Сызрани заканчивается, пора возвращаться домой…
Вот уже второй месяц в Самарском епархиальном музее действует выставка с необычным названием: «Сызранская икона: миф и реальность». На открытии выставки, которое состоялось 17 сентября, присутствовали - и дали очень высокую оценку представленной экспозиции - Управляющий делами Московской Патриархии Митрополит Калужский и Боровский Климент, Епископ Саратовский и Вольский Лонгин, вице-губернатор Самарской области Сергей Александрович Сычев. Представил выставку Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.
Владелец коллекции Андрей Александрович Кириков привез в Самару из Москвы около шестидесяти икон. В этих старинных, покрытых патиной веков, иконах дышит святость, в них запечатлены благородство и сдержанность тонкого письма.
Андрей Александрович убежден, что все эти иконы были написаны в Сызрани, известной прежде своими иконописными мастерскими:
- Посмотрите, иконы отличаются широкой полосой с весьма типичным орнаментом, завитком. Вот это узорочье - вообще формальный «паспорт» сызранской иконы! Цветовое решение их весьма ограничено, можно определить всего три-четыре колористических варианта. Это традиционные иконы, известные среди старообрядцев как икона греческого письма. Лики абсолютно иконописны, лишены живописных изысков. В позд-нейшие времена, в конце XIX - начале XX века, конечно же, икона начинает тяготеть к господствовавшим тогда вариантам.
- В чем особенность старо-обрядческой иконы? - спрашиваю у Кирикова. - Чем она отличается от икон нового письма?

Лучшие образцы старообрядческой иконы написаны в традициях древних, византийских. Естественно, что сложение перстов на этих иконах двоеперстное - это общеизвестно. Мы видим плоское изображение, без придающих объем теней. Искусствоведы с сожалением говорят о том, что в XVII веке в русское иконописание пришла европейская живопись и во многом лишила икону ее художественной простоты.
- Почему все же именно сызранская икона развилась как школа? Есть же более мощные центры старообрядчества, скажем, Иргиз.
- Иргизская икона тоже существует, но… Трудно сказать: может быть, в Сызрани иконописцы подобрались более творческие… Сызрань большой город, и старообрядческое купечество имело возможность финансировать этот промысел. С начала XIX века в Сызрани появляется несколько иконописцев. Что было до этого, сведения не дошли, но в эти времена иконописцы уже писали иконы, обучали учеников.
- Известны ли фамилии мастеров?
- Корневая вершина сызранской иконописи - это Давид Васильевич Попов, он же Порфиров: уникальная фигура, старообрядческий начетчик, то есть он был и руководителем общины. Он оставил очень много следов в архивных документах - не только как иконописец. С его именем связано усиление раскола в отдельных деревнях под Сызранью. Это, конечно, трагедия народа и Церкви. Но нельзя отрицать, что у старообрядцев сохранились древние традиции иконописи. И в то же время Попов воспитал целую плеяду иконописцев: это и Бочкаревы, и династия Качаевых, отец и сын. Иконы отца, Александра Павловича Качаева, представлены здесь, на выставке.
Директор Епархиального музея Ольга Ивановна Радченко на открытии выставки высказала глубокую благодарность владельцу коллекции, а я задала ей вопрос:
- Почему экспозиция названа «…миф и реальность»?
- Кириков провел очень большую кропотливую работу, сличая иконы между собой, устанавливая по отдельным элементам принадлежность иконы тому или иному мастеру, вообще к сызранской иконописной школе. И все же здесь нельзя быть абсолютно уверенными в том, что все иконы  коллекции принадлежат именно к сызранской школе. Владелец убежден в этом, он очень много работал в государственном архиве Ульяновской области, очень много просмотрел материала, связанного с иконописцами Сызрани. Но искусствоведы не все собранные Кириковым иконы относят к сызранской школе. Так, искусствовед из московского музея имени Андрея Рублева определила, что в этой коллекции есть и Палех, и Мстера. А это уже иконы не старообрядческого письма. На некоторых иконах на оборотной стороне стоят клейма, свидетельствующие о том, что это работы мастеров из Сызрани. Принадлежность других икон к определенной школе иконописи пока еще с абсолютной достоверностью не установлена. Так что точку ставить рано…
коллекции принадлежат именно к сызранской школе. Владелец убежден в этом, он очень много работал в государственном архиве Ульяновской области, очень много просмотрел материала, связанного с иконописцами Сызрани. Но искусствоведы не все собранные Кириковым иконы относят к сызранской школе. Так, искусствовед из московского музея имени Андрея Рублева определила, что в этой коллекции есть и Палех, и Мстера. А это уже иконы не старообрядческого письма. На некоторых иконах на оборотной стороне стоят клейма, свидетельствующие о том, что это работы мастеров из Сызрани. Принадлежность других икон к определенной школе иконописи пока еще с абсолютной достоверностью не установлена. Так что точку ставить рано…
Как бы то ни было, уже сами по себе эти иконы - к какой бы иконописной школе они ни относились, старообрядческой или Православной, вызывают подлинное молитвенное чувство, радуют дивным мастерством исполнения. Смотришь на них - и проникаешься убежденностью в том, что все они писаны глубоко и сердечно верующими иконописцами, для которых важно было не только неукоснительно соблюсти строгие каноны, но и передать величие и красоту Горнего мира…
До конца ноября продолжит свою работу выставка сызранских икон в Самарском Епархиальном музее. И вы еще можете успеть соприкоснуться с этим чудом неотмирной красоты.
На фото: Митрополит Калужский и Боровский Климент (слева) и Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий открывают выставку сызранских икон; иконы из собрания московского коллекционера Андрея Кирикова в Самарском Епархиальном музее; Митрополит Климент знакомится с иконами, представленными на выставке.
Ольга Ларькина Фото М. Булаева 20.10.200610 сентября в Москве, в Центральном музее древнерусского искусства и
культуры им.А.Рублева, открылась выставка «Художественные центры
старообрядчества: Икона Сызрани и Средней Волги».
В коллекции представлено более двухсот образов, выполненных в основном
мастерами нашего города этому письму во второй половине XVIII –
начале XX века. Выставка явилась значительным событием в культурной и
музейной жизни столицы.
Сызранская икона является мощной духовной составляющей имиджа нашего
города наряду с сохранившимися зданиями кремля и православных
храмов. Однако не все знают о том, что такое явление, как Сызранская
школа иконописи на протяжении долгого времени замалчивалось. Образов,
писанных мастерами города, нет в музейных коллекциях и храмах. Более
того, совсем недавно Сызранскую икону относили к «Палеху», «Мстере» или
– обобщенно – к «Поволжью».
В чем же дело? Почему такое замечательное явление русской
художественной культуры, как сызранская икона, долгое время оставалось
анонимным?
За ответом мы обратились к самому большому знатоку сызранской иконы Андрею Александровичу Кирикову. И вот что он сказал:
- Дело в том, что Сызрань была одним из старообрядческих центров
Поволжья. Она оказывала существенное влияние на духовную жизнь всего
региона. Скорее всего, именно икона стала одним из инструментов
распространения влияния старообрядческих общин города на соседей.
Именно поэтому на официальном уровне не было признания Сызранской
иконописной школы.
Андрей Александрович – уроженец Ульяновска (ранее Симбирск – центр
губернии, в состав которой Сызрань входила до 1928 г.). Первую
сызранскую икону он приобрел, когда еще не имел паспорта. И вот уже
более 30 лет отдает своему любимому занятию все свободное время. А его
было не так много в прошлом, когда Андрей Александрович служил офицером
в ракетных войсках. Мало и сейчас, когда он занимается бизнесом. Тем не
менее, Кириков не только собирает образа сызранского письма (да еще и
меднолитую пластику), но и отдает ее в очень хорошие руки на
реставрацию. В том числе - художнице нашего города Наталье Пятковой.
Андрей Александрович не устает доказывать, что Сызранская школа должна
занять подобающее ей место в иконописной географии России. Венцом его
30-летнего собирательства и стала выставка «Художественные центры
старообрядчества: Икона Сызрани и Средней Волги», организованная
Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева (г.Москва) под эгидой Министерства культуры РФ.
Следует заметить, что музей этот располагается на территории
Спасо-Андроникова монастыря, в котором имеется самое древнее
сохранившееся сооружение столицы – храм во имя Спаса Нерукотворного (XV
век). А в казематах обители был в свое время заточен протопоп Аввакум,
не принявший нововведений патриарха Никона.
Впервые коллекция Сызранской иконы – всего более 200 образов –
выставлена на всеобщее обозрение. Причем первоначально открыть
экспозицию планировалось в конце мая. Но устроители отказались от этой
мысли и перенесли выставку на сентябрь. Для того, чтобы именно этой
значительной экспозицией открыть сезон. И они не ошиблись: успех
был ошеломляющим! Многочисленные столичные знатоки русской
художественной культуры были потрясены сызранской коллекцией!
Художественная, историческая и духовная ценность Сызранской иконы
заключается в том, что в старообрядческой среде (в отличие от
иконописания господствующей церкви, ориентирующегося на
западноевропейскую живопись) сохранилась «греческая» традиция с
характерным для него одухотворением, сдержанным колоритом,
лаконичностью композиции, удлиненными пропорциями фигур, изысканной
симметричностью архитектурных кулис. Совершенно точно можно утверждать,
что элементы декора сызранской иконы оригинальны. Они не встречаются
больше ни в каких других школах и промыслах. Именно по ним мы можем
безошибочно идентифицировать образа как сызранские.
Сызранская икона исполнялась на ковчежной доске, как правило, из
кипариса. Поверхность тщательно обрабатывалась, оклеивалась поволокой и
залевкашивалась (левкас – название грунта в русской средневековой
живописи).
Писалась икона темперой, то есть красками, в которых связующим
компонентом является эмульсия из воды и яичного желтка. В качестве
пигмента использовали вещества органического происхождения – глину,
сажу, мел, веточки вишни и т.п. Технология темперы не допускает
исправления ошибок, поэтому искусство иконописца (в отличие от
живописца) предполагает долгую выучку и большую практику. Искусная
рука, верный глаз и глубочайшее любовнейшее знание, переданное от отца
сыну, от поколения к поколению, - вот что делает иконописца творцом
русского искусства.
Сызранские образа имеют широкую пологую лузгу, спускающуюся от поля
иконной доски в ковчег. Большинство работ снабжены орнаментальной
росписью. Она представляет собой чередующиеся изображения
стилизованного цветка ромашки, лепестка и трилистника. Рисунок в
деталях соответствует распространенному тисненому орнаменту с обложек
старопечатных книг. На некоторых иконах орнамент по лузге заменен на
золотую кайму. Для сызранского образа характерна также двойная
опушь (кайма) по полям. Практически на каждой иконе присутствуют клейма
с изображением патрональных святых, тезоименные заказчику и
покровительствующие ему и его домочадцам. Кстати, последнее
свидетельствует о преобладающем заказном характере работ. Шрифт,
которым подписывалась сызранская икона, - вытянутый полуустав. Таким
писали старинные книги.
Итак, сызранская икона имеет характерные черты, присущие
старообрядческому образу вообще, и свои, оригинальные, элементы. Ее
«визитная карточка» – узорочье по лузге в форме ромашки и трилистника;
образ Ангела-хранителя, который по преимуществу присутствует, а также
особая колористика – она более разнообразна, чем кажется вначале.
Не редкость на сызранской иконе – белый фон и многоцветье. Такой образ
ярок, праздничен. Здесь нет «уныния». Колористика сызранской школы
близка современному восприятию декора.
Иконы сызранского письма отнюдь не провинциальны. Они отвечают самому взыскательному вкусу ценителей иконописи.
А.А.Кириков выявил, что географию сызранской иконы представляли и
мастера (всего около 70 человек) из различных близлежащих населенных
пунктов. Кроме Сызрани, это Тереньга, Старый Тукшум, Сенгилей, Карсун
(Симбирской губернии), Хвалынск (Саратовской), Кузнецк (Пензенской).
Идеи, выдвинутые в среде сызранских мастеров, были столь
значительны, что на них ориентировались иконописцы и в Казани, и на
Верхней Волге.
К сожалению, в местном краеведческом музее Сызранская икона
представлена лишь единичными экземплярами. Вот уж воистину: что имеем –
не храним…
Выставка Сызранской иконы в Центральном музее древнерусского искусства
и культуры имени Андрея Рублева будет экспонироваться 3 месяца. У
многих сызранцев, совершающих командировки или частные поездки в
столицу, есть возможность познакомиться с духовным творчеством своих
земляков-предшественников.
Семенова Ю.С.
Введение
Сызрань - один из развитых центров иконописания 19 века. В порядке уточнения добавим - центр старообрядческого иконописания. Сызранские мастера, опираясь на традиции византийского и древнерусского искусства, создали неповторимый, свой малый мир старообрядческих икон.
Сызрань - один из старообрядческих центров Поволжья, тесно связанный не только со старообрядческими общинами прилегающих земель Сызрани (периферий), но и оказывающий влияние на духовную жизнь всего региона. Есть основания считать справедливым утверждение, что именно икона становиться одним из инструментов распространения влияния сызранских старообрядческих общин.
Бурный экономический рост Сызрани в 19 веке приводит к появлению сословий, способных своими заказами поддержать иконописный промысел, который в свою очередь становиться неотъемлемой частью экономики уезда.
Из архивных материалов известно, что уже во второй четверти 19 века купец Сидельников имел в Сызрани свой магазин, в котором продавались иконы местного производства, и стоили они дорого – от 5 до 15 рублей серебром. Иконы также можно было купить или заказать у мастеров одиночек, либо в иконописных и иконостасных заведениях. Подобных мастеров и заведений, прямо или косвенно связанных с Сызранским уездом, по архивным сведениям за вторую половину 19 века, насчитывается не менее 70.
Иконный бизнес процветал, годовой налог за иконописное производство с мастера был небольшим и составлял 1 руб. 70 коп., за содержание мастером рабочего или подмастерья налог составлял 1 руб. 15 коп., содержание ученика 57 коп. (из «Книги Сызранской ремесленной управы на записку прихода и расхода сумм городских доходов по каретному и столярному цеху»). В то время работа над иконостасом, «с его покраской и позолотой в некоторых местах резьбы и карнизов золотом на гульфарбу» стоила 300 руб. А трехлетний контракт на обучение ученика с содержанием стоил от 100 до 150 рублей.
В целом иконописное в Сызранском уезде носило заказной характер, о чем свидетельствует изображения патрональных (тезоименных) святых на полях большинства икон. Подавляющее число мастеров уезда принадлежало к общине поморцев-беспоповцев, приемлющих браки, однако, сызранское иконописание само по себе не было явлением внутриконфессиональным. Иконописцы выполняли заказы также для старообрядцев австрийского согласия, для единоверцев и для господствующей церкви.
Глава I. Особенности сызранского иконописания
Сызранское иконописание конца 18 и 19 веков отмечено прежде всего самобытным стилем, получившим в среде старообрядцев Поволжья название «греческого», с характерным для него сдержанным колоритом, лаконичностью композиции, удлиненными пропорциями фигур, изысканной симметричностью архитектурных кулис. Иконы сызранского письма не провинциальны, они отвечают самому взыскательному вкусу ценителей иконописи. В то же время обладают типичными для своего времени признаками старообрядческой иконы - ковчег, двойная опушь по полям, среди патрональных святых на полях изображение Ангела Хранителя, торцевые стороны иконной доски залевкашены и окрашены в киноварные или вишневее тона. Для малоформатных икон доски зачастую изготавливались из кипариса.
Важнейшим формальным признаком сызранской иконы является широкая пологая лузга. В подавляющем большинстве случаев по черному фону лузги, ограниченного по краям тонкими белильными линиями, нанесен золотом или серебром орнамент, состоящий из чередующихся стилизованных цветков ромашки и завитков в форме трилистника. В отдельных случаях на пологую лузгу нанесена золотая полоса шириной 3-4 мм, ограниченная по краям тонкими белильными линиями. На иконе «Богоматерь Знамение Новгородское» являющейся, со слов семьи последней из написанных Александром Архиповичем Бочкаревым, вообще отсутствует какое бы то ни было декорирование пологой лузги.
Создается впечатление, что мастера, готовившие иконные доски, в процессе работы подразумевали некий типовой декор для нанесения на лузгу, а именно «ромашка-завиток», в то время как иконописец эпизодически отклонялся от заданного стандарта.
Удлиненный шрифт, которым подписывались иконы, также весьма типичен - в нем мы обнаруживаем сходство с полууставом старопечатных книг. В рассказе о сызранской иконе обращает на себя внимание череда названий различных населенных пунктов: Сызрань, Тереньга, Старый Тукшум, Сенгилей, Корсун (Симбирская губерния), Хвалынск (Саратовская губерния), Кузнецк (Пензенская губерния) - все эти населенные пункты являются не только местом бытования крупных сторообрядческих общин, что само по себе является немаловажным фактом. Главное же - в этих местах жили и писали иконы на протяжении второй половины 19 века замечательные мастера из числа тех 70 мастеров-одиночек и иконописный заведений. И дело не в том, что все эти населенные пункты соседствовали территориально, главное - все они представляют собой географию сызранской иконы.
Глава II. «Бочкаревская» иконопись
2.1. Суждения о существовании «бочкаревской» иконописи
В среде коллекционеров существует такое определение как «бочкаревка», которое доныне носили к иконам, написанным в Сызранской иконописной мастерской неких Бочкаревых, также к иконам, написанным в лучших традициях этой мастерской, ставшей школой и прославившейся своими произведениями на всю Россию.
На вопрос, действительно ли существовала большая иконописная мастерская Бочкаревых в городе Сызрани Симбирской губернии или это было дело одного мастера, долгое время никто не мог дать точный ответ. Попросту же никто всерьез этим не занимался. И лишь в последнее время все чаще стали встречаться статьи и другие публикации о « бочкаревской» иконе.
По причине того, что достоверных и конкретных сведений о мастерской очень мало, все доселе опубликованные сочинения большей частью кажутся неким вымыслом.
Изыскания некоторых исследователей последних лет не увенчались успехом. Как таковой «мастерской Бочкаревых» обнаружено не было. К примеру, в 1994 году О.И. Радченко (заведущая Самарским Епархиальным музеем) в фонде Сызранского городского архива были найдены лишь сведения о некоем купце А.И. Бочкареве и принадлежащем ему недвижимом имуществе: доме с магазином по ул. Советском, 28 (ранее ул. Большая) и доме и землевладении в пер. Достоевского, 19 (Казанский пер.)
За десять лет служения в Самарской Старообрядческой общине ДПЦ, опекающей также и сызранское общество поморцев, неоднократно встречалась фамилия Бочкаревых. Первое - это воспоминания верующих о «Бочкаревой моленной» в Сызрани, второе - иконы, заказанные где-то в канун революции 1917 года самарской мещанкой Пелагией Ивановой Маркиной (в замужестве Ушановой) у иконописца Бочкарева в Сызрани. И, наконец, - икона с изображение трех святых «Преподобного Паисия Великого, мученика Уара и равноапостольной Феклы», с клеймом «пресловутого» мастера: «А.А. Бочкарев, иконописец в Сызрани. 1893г.»
Дочь П. И. Маркиной-Ушаковой рассказывала, что иконы с образом Богородицы «Достойно есть, с клеймами Ангела Хранителя и преподобной Пелагии» и «Распятие» (или « Плачь у Креста») были заказаны матерью у иконописца Бочкарева из Сызрани по поводу одной личной и судьбоносной трагедии. В начале 30-х годов он навещал их дом в Самаре, и то ли имя ему было Архип, то ли отчество Архипович.
Хозяйка иконы «Преподобного Паисия» было поведано, что она лично знала одного сызранского иконописца Бочкарева, но Николая Александровича. Родился он в семье потомственных мастеров- иконописцев и, унаследовав это мастерство от деда и отца, по молодости также писал иконы. Но потом были репрессии и ссылка, по возвращении из которой он уже не притрагивался к дедовскому ремеслу. Работал бухгалтером на производстве, служил в поморской моленной уставщиком и умер в начале 80-х годов ХХ века. Его дети живут в первопрестольной, и связи с ними никакой нет.
Так, по косвенным фактам были расставлены некоторые точки: примерно на протяжении столетия в городе Сызрани Симбирской губернии жила и работала как минимум династия (пока не говоря о большой мастерской или школе) иконописцев-староверов поморского согласия Бочкаревых - Николай Александрович, его отец Александр Архипович и дед Архип.
Дальнейшие поиски по этой теме на некоторое время были приостановлены, так как все сведения, полученные ранее, оказались обрывочными, неточными, а подчас и тупиковыми.
События же последнего времени вновь подвигли к исследовательской работе историков. А именно - это деятельность фонда «Возрождение», работавшего под именем иконописца А.А. Бочкарева, относившемуся к староверам поморского согласия.
Именно «доброхотам» из культурно-просветительской общественной организации «Возрождение» удалось разыскать дочь Александра Архиповича Бочкарева - восьмидесятипятилетнюю Валентину Александровну (в замужестве Зеленкову), которая, как оказалось, жива, здравствует и обладает ясным рассудком и светлой памятью.
В конце 18 века в Сызрани зарождается новый для данной местности промысел, получивший именование «Сызранской иконописи».
Сызранская икона - одно из наименее известных явлений русской художественной культуры 18-20 веков.
Это определенный тип икон, возникший в городе Сызрань Симбирской губернии в среде староверов поморского согласия.
2.2. Биография А.А. Бочкарева
Одним из выдающихся и последних мастеров-иконописцев, работавших в Сызрани, был Александр Архипович Бочкарев (15. 01. 1866 -31.05. 1935).
Отец Александра Архиповича - Архип Афанасьевич - был женат на дочери уже упомянутого Д. В. Попова - Александре. Достоверно неизвестно, занимался ли Архип Афанасьевич иконописью. В одном из документов по поводу его профессиональной деятельности говориться, что он певчий. Родство с Д. В. Поповым объясняет преемственность в иконописном ремесле Александра Архиповича. Александр Архипович жил в доме по ул. Чапаева, 5 (бывшая ул. Канатная).
Этот дом был построен ему за счет средств общины и располагался рядом с моленной, где Александр Архипович был руководителем хора. Большая часть икон для иконостаса также была написана именно им.
Как рассказывала его дочь, в Пережогинскую моленную Александр Архипович ходил очень редко, только на именитые праздники. Здесь же было все родное, просто, уютно, без напыщенности - по-домашнему.
Жена Александра Архиповича - Дарья Николаевна, урожденная Спирина - из бедной семьи, сирота, до замужества жила с братьями. У А. А. Бочкарева было восемь детей: шесть дочерей - Зоя, Екатерина, Зинаида, Миропия, Евфалия и Анна, и два сына - Николай и Алексей. На рождение последнего Александр Архипович написал небольшой деревянный крест - «Распятие» - якобы «все, крест кладу, и на этом детей больше не будет». Иконописное дело дохода приносило немного, а прокормить такую многочисленную семью было тяжело.
По отношению к детям Александр Архипович был добрым и ласковым, но требовательным, строго следил за тем, что бы молились Богу. Все дети были обучены церковной грамоте и стояли на клиросе в моленной.
Мастерская располагалась в том же доме, где в задней комнате стояли три верстака, кровать и подвесная керосиновая лампа. Естественное освещение создавали четыре окна.
Трое из братьев Александра Архиповича - Иван, Федор и Петр - были также обучены иконописанию. Но Александр Архипович любил (по свидетельству дочери) работать один.
Работа братьев почему-то его не устраивала, и когда Федор Архипович приходил помогать к нему в мастерскую, то ему доверялась только подсобная работа (покрасить фон, каемочку подвести).
Братья Александра Архиповича, по всей видимости, как и он сам, учились иконописному ремеслу у Д.В. Попова. Об этом свидетельствует надпись на клейме, которое ставил на свои иконы Ф.А. Бочкарев: «Иконописная мастерская Федора Архиповича Бочкарева, преемника Давида Васильевича Порфирова». А вот сына Николая Александр Архипович уже учил сам.
Бывали у мастера и другие ученики, но они подолгу не задерживались поскольку труд иконописца требует духовной выдержки, а также большой усидчивости, внимания и терпения. В подмастерьях у Александра Архиповича был сирота Иванушка, парнишка лет 14-15, который жил в семье Бочкаревых продолжительное время.
У Валентины Александровны сохранилась одна пробная работа кого-то из его учеников. Это небольшая, чуть больше спичечного коробка дощечка, с изображением Богородицы. На ней отсутствует ковчег, плохо положен левкас и, кажется, даже нет проволоки. Из-за непрофессионализма в работе она имеет очень плохую сохранность.
Доски для написания икон заказывались. Как вспоминает Валентина Александровна, «от них исходил какой-то удивительно приятный, душистый запах - кипарисовый».
На некоторые из своих икон Александр Архипович Бочкарев, как уже говорилось выше, с тыльной стороны ставил личные клейма, которые сейчас представляют собой особую ценность.
Известны два вида его авторских клейм. Первое представляет собой четко начерченный круг диаметром два сантиметра, внутри которого располагались надписи: «Иконописец в Сызрани. А.А. Бочкарев…». Это клеймо писалось вручную на сусальном золоте, положенном прямо на доску. Неровные края золота слегка выходили за края круга. Такое клеймо ставилось с тыльной стороны иконы, чуть выше нижней шпонки, вправо от центра. Второе клеймо - это прямоугольник, с подобной надписью внутри. Оно также написано вручную на сусальном золоте и ставилось в нижнем правом углу с тыльной стороны иконы.
Клеймо же Ф.А. Бочкарева, текст с которого упоминался выше, было стандартным штемпельным.
В принципе, все иконы по стилю письма можно с уверенностью можно отнести к той или иной иконописной школе, но большинство этих творений безымянны. Только высокоименитые иконописцы конца 19 - начала 20 века клеймили их. Тем самым не только заявляя о своем авторском праве, но и полной ответственности за мастерство.
Александр Архипович Бочкарев принимал участие в Нижегородской выставке 1896 года, о чем говорится в «Подробном указателе по отделам Всероссийской промышленной и кустарной выставки 1896 года в Н. Новгороде. Отдел Х. Художественно-промышленный». О награждениях А.А. Бочкарева за участие в выставке в книге не отмечено, но якобы есть сведения, что там он был удостоен похвальной грамоты.
Позднее его мастерство было признано и в родном городе. Об этом свидетельствует «Похвальный лист», хранящийся в местном Краеведческом музее, со следующим текстом: «Распорядительный Комитет Сызранской сельскохозяйственной и кустарной выставки присудил Александру Архиповичу Бочкареву за предоставленные имъ две иконы писанныя масляными красками, сей похвальный лист. 9 сентября 1902 года. Председатель Комитета, подпись. Уполномоченный, подпись. Члены, подписи».
В книжнице Самарской Поморской общины имеется рукописная книга «Сказание от священных правил, и от учителей церковных, яко не подобает к еретиком приобщения имети». В этой книге имеются записи, по всей видимости, кому предполагалось ее разослать. Здесь встречаются адреса и имена (дательном падеже) широко известных начетчиков поморской церкви конца 19 - начала 20 веков: Ивана Ивановича Зыкова, Ивана Михайловича Цветкова и Андрея Александровича Надеждина. Среди прочих имеется и запись (с небольшими утратами) следующего содержания: «в город Сызрань (Симбирск. Губер… за Крымзу, в солдатскую улиц… иконописцу Александру Архиповичу Бочкареву.»
Данная запись свидетельствует если не о личном знакомстве Александра Архиповича с указанными лицами, то его уважении и духовном авторитете в поморском обществе по всей России.
6 ноября 1929 года Александр Архипович был арестован, а 7 февраля 1930 года тройкой при ПП ОТПУ по Средне-Волжскому краю приговорен по ст. 58-10 к трем годам заключения в концлагере. В 1931 году в результате репрессии А. А. Бочкарев был сослан в Архангельскую губернию, село Холмогоры на вольное поселение, где жил у одной старушки и ухаживал за скотиной.
В это же время закрыли и расположенную рядом моленную, иконы погрузили в машину и увезли. При погрузке кто-то сказал, что в конюшню полы застилать, может быть, в качестве кощунственной насмешки, а может быть и правда: ведь зачастую случалось и такое. Позднее в этом помещении были швейные мастерские, и женщины за работой порой распевали неприличные песни. Также в разное время здесь была начальная школа и ремонтные мастерские. Оскверненное помещение сгорело в 80-х годах и вскоре было разобрано.
По возвращении из ссылки Александр Архипович был под постоянным наблюдением властей. Иконы писать не разрешали, да и заказчиков не было. Семью нужно было чем-то кормить, и чтобы хоть как-то зарабатывать на хлеб, ему пришлось устроиться на работу в Художественные мастерские на ул. Советской, где он проработал шесть месяцев, до самой смерти. Писал плакаты и лозунги, на красных флагах рисовал серп и молот. В этом биография А.А. Бочкарева схожа с биографиями многих мастеров-иконописцев, чья жизнедеятельность пришлась на первые годы Советской власти.
2.3. Характерные отличия и особенности «бочкаревской» иконы
Одно из свидетельств высокого мастерства сызранских иконописцев - это отличная сохранность их творений по сегодняшний день.
При рассмотрении их икон создается впечатление, что нет ни одного иконописного приема или техники, которой бы они не владели в совершенстве.
Однако, существуют характерные отличия и особенности «сызранской иконы», которые попытаемся выделить на примере имеющихся икон А.А. Бочкарева, представленных в качестве иллюстративного материала к данной статье:
Доска икон ковчежная, тщательно обработана, в большинстве случаев выполнена из кипариса;
Тыльная сторона доски зачастую также покрыта левкасом и покрашена;
Шпонки с тыльной стороны доски профилированы в форме» ласточкиного хвоста»;
Поверхность красочного слоя покрыта толстым слоем бесцветного блестящего лака;
Лузга (спуск от поля в ковчег) широкая, пологая;
В большинстве работ имеется орнаментальная роспись по лузге. Иными словами, такую технику называют плавью по золоту или серебру. Этот орнамент представляет собой чередующиеся изображения стилизованного цветка ромашки, лепестка и трилистника. Здесь и в других случаях орнамент в деталях соответствует распространенному тисненному орнаменту с обложек старопечатных книг. На которых иконах орнамент по лузге заменен на золотую кайму;
Двойная опушка (кайма) по полям;
Лики святых строги и одухотворенны;
Лик Богородицы, при кажущейся простоте извода исполнен теплоты и нежности;
Изящный рисунок;
Удлиненность и пластичность фигур, создающие ощущение застывшего движения;
Тончайшая, каллиграфическая разработка одежд;
Филигранная техника миниатюры;
Четкость и лаконичность композиции;
В одних иконах наблюдаются плотные и сдержанные цвета, общий темный колорит, в других - напротив, изысканное « многоцветье»;
На полях подавляющего большинства икон - клейма с избранными патрональными (семейными) святыми и весьма часто встречающимся образом Ангела-Хранителя, свидетельствующие о преобладающем заказном характере иконописания в Сызрани.
Заключение
Исследования по данной теме и выпуск книги «Сызранская икона» - это попытка ввести в научный оборот круг икон, представляющий Сызранский Центр иконописания. Музейные работники и ранее корректно указывали происхождение таких икон как написанных на Средней Волге. Безусловно, «Сызранская икона» входит в круг старообрядческих икон Поволжья, сохраняя их формальные признаки. Однако, на Средней Волге также в достаточном количестве можно встретить иконы так называемых «провинциальных» писем. Скорее всего, их начало было положено в Иргизских (поповщинских) монастырях. Сызранские же мастера-иконописцы поморского согласия - сформировали яркий, самобытный, отличный от других стиль в иконописи.
Сызранские иконы изготавливались как на заказ, так и для свободной продажи и большей частью преобладали в иконостасах храмов и молитвенных домов по Симбирской и Самарской губерниями.
Литература
- Календарь Древнеправославной Поморской церкви. Издание Единого Совета Древнеправославной Поморской церкви, 2003 г.
- Сызранская икона. Каталог выставки – Самара, 2007 г.
- Н.П. Кондаков. Византийские деятели и памятники Константинополя. М. Индрик, 2006 г.
- Личный Фонд (Б-27) А.А. Бочкарева МБУ «Сызранский Краеведческий музей»
- http://pomnipro.ru/memorypage12436/biography - Электронный мемориал.
- http://samstar-biblio.ucoz.ru/photo/20 - Книжница Самарского староверия.
Приложение




- Русское краеведение
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»
Настоящее издание (Сызранская икона. Каталог выставки – прим. «Самарского староверия») посвящено значительному и яркому явлению в истории русского искусства и православия – сызранской иконе конца XVIII-XIX веков. Написанию этой статьи предшествовала большая работа по сбору и систематизации памятников, изучению мест их бытования, описанию и определению общих признаков, выявлению исторического и религиозного контекста. Зачастую в процессе ее новые материалы меняли наше представление на изучаемый объект.

Начало работ по сбору и анализу материалов, касающихся иконописания в г. Сызрани, относится к середине 90-х годов уже прошлого века. Тогда же были сформулированы и основные направления в изучении сызранской иконописи.


Первое направление трактовалось как создание репрезентативной коллекции икон. Она, на наш взгляд, должна представлять наибольшее число иконописных мастерских Сызрани, а также демонстрировать особенности и характерные черты сызранского иконописания. На сегодня коллекция насчитывает более 150 единиц хранения – результат тщательного отбора предметов, обладающих рядом общих признаков.Вторым направлением нашей работы явилось проведение исследований в государственных архивах Сызрани и областных центрах, соседствующих с городом географически. Наибольшее количество полезной информации было почерпнуто нами из фондов Государственного архива Ульяновской области. Последнее объясняется тем, что до 1928 года Сызрань являлась уездным городом Симбирской губернии. Вместе с тем, неоднократно отмечалась крайняя скудость сведений о состоянии сызранского иконописания даже в этом архиве. Причиной тому мог явиться известный пожар 1864 года, уничтоживший три четверти построек Симбирска и унесший большую часть библиотечных и архивных хранений города.Третье направление – проведение краеведческих изысканий с целью установления потомков известных иконописных фамилий Сызрани. Неожиданно для нас именно это направление дало весьма интересный результат. В частности, нам удалось установить две семьи, проживающие в настоящее время в Сызрани и являющиеся прямыми потомками известной иконописной динас¬тии Бочкарёвых. В этих семьях мы приобрели обширный архив, большая часть документов которого относится к 90-м годам XIX века.
Так к нашей коллекции добавились памятная книга сызранского иконописца Александра Архиповича Бочкарёва с перечнем заказов на выполнение иконописных работ, большое количество писем и фотографий, а также икона «Богоматерь Знамение Новгородское», написанная А.А. Бочкарёвым незадолго до смерти.
Чрезвычайно важным для нас стало приобретение рукописного Месячного иконописного подлинника полной редакции, дополненного «Собранием о надписании Животворящего Креста», выписанным из «Поморских ответов». На оборотной стороне обложки книги сделана запись: «Сия книга переплетена 7 марта 1887 года».
Время написания текста Месячного подлинника относится к середине XIX века, выдержки из «Поморских ответов» написаны обычным гражданским шрифтом и дати¬руются, очевидно, временем, близким ко времени переплетения книги.


Между страницами книги оказалось множество листков с различными записями. Среди них несколько интересующих нас прорисей на кальке с филигранно выполненными карандашными изображениями святых, рецепты «как составить крепкий и слабый полимент» и «как проводить злащение», заметки о том, «где купить кисти» и т.п. На месте титульного листа аккуратно вклеена страница с записями.
«1847 года родитель наш Василий Порфирович помер сентября 29. Иван Иванович Дьяконов помер того же году ноября 12 дня».
«1865 года ноября 1 числа выдана в замужество дочь Александра».
«1866 года сентября 4 числа померла родительница Матрёна Трифоновна, жития было 63 года».
Большой разрыв в хронологии записей свидетельствует о том, что записи были сделаны в более поздний по отношению к произошедшим событиям период и носили, несомненно, характер памятных. Однако именно эти события, имена их героев и даты позволили нам путем сравнения автобиографических данных установить хозяина Иконописного подлинника. Им оказался Давид Васильевич Попов, он же Порфиров. Забегая вперед, скажем, что фигура иконописного мастера Д.В. Попова была ключевой в развитии иконописного промысла Сызрани второй половины XIX века.
XIX веком отмечено большинство икон нашей сызранской коллекции, и лишь десятую часть упомянутой коллекции можно датировать концом XVIII века или рубежом XVIII-XIX веков.


Несмотря на принадлежность большей части икон Новому времени, мы обнаруживаем полную чуждость сызранского иконописания академическому стилю. Академическая церковная живопись с ее типичными попытками портретного письма, объемными подачами фигур, яркими красками и особой ценностью икон, написанных на сусальном золоте, была типична для России XVIII – XIX веков. Не стало исключением и иконописание Симбирской губернии в целом. Примеры тому – икона «Святой благоверный князь Александр Невский» с подписью: «Сооружена гласными Симбирской городской Думы в память Введения в Симбирске в (?) день февраля 1871 года Городского положения» или икона «Святых апостолов Петра и Павла» с подписью: «В дар ктитору Симбирской градской церкви Святых апостолов Петра и Павла в знак признательности. 30 дня января 1913 года». Эти и множество других икон местного производства являются яркими образцами, соответствующими «фряжскому» стилю иконописания.
Что же касается именно сызранских икон есть все основания констатировать: хотя и писались они в период, когда преобладал академический стиль, освободивший живопись от всех тех условий, исполнения которых требовала Восточная церковь, всё же сызранское иконописание сохранило и донесло до XX века иконы , выполненные в классической манере древних икон. Причем, в отличие от палешан, работавших много и плодотворно в разных стилях, переживших как яркий случай, как эпизод «письмо греческого пошиба», сызранцы понимали греческое письмо совсем иначе. Последнее для них было единственно возможным смыслом и сутью иконы. «Наука древностей и искусства православного Востока обязательна для русской археологической науки не только как среда наиболее ей близкая, родственная и потому понятная, но и как исторически унаследованная», – пишет Н.П. Кондаков о генезисе памятников православной художественной культуры. Греческое письмо имело свое предназначение, оно основывалось на соблюдении общих и незыблемых правил, которые передавались из поколения в поколение и создавали универсальность и единство стиля.
Одно из упоминаний, свидетельствующее о наследственном характере сызранского иконописания, относится к 1866 году. Речь идет об архивной записи, касающейся замечательного мастера и наставника, воспитавшего целое поколение сызранских иконописцев, Давида Васильевича Попова (Порфирова). Про себя Д.В. Попов писал: «… мой прадед принадлежал к духовному званию, дед был мещанином, занимался иконописной работой, а отец – сапожным мастерством». Эта запись дает нам важную точку отсчета в изучении сызранского иконописания, приводящую нас приблизительно в 1810 год – время, когда дед Д.В. Попова сам начинал заниматься иконописью.
Очевидно, уникальность сызранских икон должна была быть связана с определенной средой, являющейся тем плодородным слоем, способным сохранять и воспроизводить легко узнаваемый стиль этих икон.
Исследовав множество архивных документов, мы убедились, что исключительно все сызранские иконописцы принадлежали к расколу. В таком свете нам стала понятной приверженность сызранских иконописцев греческому письму, где сама икона являлась отражением мироощущения старообрядчества, его стремления к коллективной целостности в противостоянии окружающему социуму.
Бесспорным подтверждением сказанному является само содержание Иконописного подлинника – сборника правил иконописания, в частности той его части, которая представляет выдержки из «Поморских ответов». Таким образом, Подлинник становится знаковым документом, свидетельством что его бывший владелец Д.В. Попов принадлежал к старообрядчеству.


Итак, перечисленное позволяет сформулировать нам первый тезис настоящего сообщения: Сызрань – один из развитых центров иконописания XIX века. В порядке уточнения добавим – центр старообрядческого иконописания. Сызранские мастера, опираясь на традиции византийского и древнерусского искусства, создали неповторимый, свой малый мир старообрядческих икон. В связи с принадлежностью сызранских иконописцев к старообрядчеству, нас, естественно, заинтересовал вопрос: случайно ли иконописцы принадлежали к расколу, когда и почему старообрядцы оказались на правобережье Волги под Сызранью?
В фондах Государственного архива Ульяновской области находим первый документ, который свидетельствует о распространении раскола в Симбирской губернии. Ссылаясь на него, можем предположить, что раскол появился в губернии около 1700 года. Будто бы «… первые семена раскола бросил какой-то московский житель, по имени не известный». Он закупал в Симбирской губернии хлеб и в «свободное время беседовал с крестьянами на улицах и в домах, внушая им, что ныне нет истинной веры в народе, что христиане изменили вере и вместо двуперстного сложения употребляют трехперстное, пишут иконы по-новому, и многое подобное тому говорил».
Появление старообрядцев в Симбирской губернии в начале XVIII века взял под сомнение кафедральный профессор протоиерей Духовной семинарии Симбирска Павел Охотин. В «Сборнике обозрений пред¬метов, преподанных ученикам семинарии в 1860/61 учебном году» он писал о первоначальном появлении раскола в Симбирской губернии в последней четверти XVIII века. «По церковным данным, 1781 год», – указывает он и говорит об ошибочности мнения, будто бы раскол появился в Симбирской губернии до времени восшествия на пре¬стол императрицы Екатерины II.
На достоверность вывода Охотина указывает известный манифест Екатерины II 1762 года. В нем императрица призывала вернуться в Россию всех «русских беглецов», обещая им различные «матерние блага» и восстановление их в правах «гражданственности». Последующие императорские указы 1764 и 1769 годов определяли вернувшимся в страну места для поселений по реке Иргиз и вдоль «старой сиротской дороги» с Волги на Урал, проходившей в том числе и по территории Симбирской губернии.
В «Симбирских епархиальных ведомостях» (№ 7 за 1902 год) в обширной статье «Исторический очерк раскола и сектантства в Симбирской губернии» священник С. Введенский пишет: «По указу Екатерины II от 14 декабря 1762 года, в видах колонизации края, были приглашены, как известно, Ветковские заграничные раскольники для заселения берегов Волги, и тогда, нужно думать, некоторые поселились не только в из¬вестных впоследствии Иргизских скитах, но и в пределах Симбирской губернии, в уездах – Симбирском, Сенгилеевском и Сызранском».
В «Сборнике исторических и статистических материалов Симбирской губернии на 1868 год» Сызрань отмечалась как город, славившийся своими «упорными и сильными по богатству и торговым связям с Москвою, Астраханью, Уральском и Черноморием раскольниками». «Милостыня, которую они (раскольники. – Ред.) получали из города Сызрани и других богатых мест была главным для раскола Симбирской губернии».
О распространенности раскола в Симбирской губернии можно судить исходя из данных кафедрального протоиерея Петра Устинова за 1878 год. «По пути от города Симбирска до города Сызрани и обратно, – писал священник, – Его Преосвященством Преосвященнейшим Феоктистом, епископом Симбирским и Сызранским, обозрено было 48 церквей (14 городских и 34 сельских), находящихся в 14 приходах с православным населением и 29 приходах с раскольничьим населением, остальные 5 храмов – бесприходные».
Итак, приведенные архивные сведения позволяют сформулировать второй тезис настоящего сообщения: Сызрань – один из старообрядческих центров Поволжья, тесно связанный не только со старообрядческими общинами прилегающих к Сызрани земель (периферий), но и оказывающий влияние на духовную жизнь всего региона. Есть основания считать справедливым утверждение, что именно икона становится одним из инструментов распространения влияния сызранских старообрядческих общин.
Выгодное географическое положение способствует быстрому экономическому росту Сызранского уезда к середине XIX века. Так ежегодный объем отгружаемых с сызранских пристаней различных сортов хлебных продуктов уже в этот период превышал 1 миллион пудов. К началу XX века по суточной переработке хлеба (60 тысяч пудов) Сызрань отстает лишь от Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. В 1874 году в нескольких верстах от Сызрани владельцы Саймакинской суконной фабрики Войековы поставили первый русский асфальтовый завод. Акционерное общество Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности было единственным поставщиком отечественного асфальта и гудрона в России, вырабатывая только асфальта более одного миллиона пудов в год. В 1876-1880 годах был построен и открыт для движения железнодорожный мост через Волгу, по своей длине, 1 верста 195 сажен, он занимал первое место в Европе. Мост был зве¬ном, соединившим общую сеть российских железных дорог с Заволжьем и Сибирью.
Таким образом, мы привели лишь несколько зарисовок динамичной экономической жизни Сызрани XIX века. Последним штрихом старообрядческой пасторали можно считать численность купеческого сословия в Сызрани, составившего к 1867 году 1004 человека, цифра, естественно, не включает количество заведений и патентов по различным ремесленным цехам. Отметим, что население города в тот период составляло не более 30 000 человек. Более того, очевидно, что эта статистика отражает реальную социальную структуру населения города, поскольку содержит сведения на дату существенно более раннюю, чем дата утверждения Государственным Советом (3 мая 1831 года) закона «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных требований».
В наше обращение к экономической жизни Сызрани XIX века не входила задача установления причины быстрого промышлен¬ного роста уезда, и тем более – установления связи промышленного роста с конфессиональными предпочтениями сызранского купечества и промышленников. Однако относительно этого вопроса у нас есть одно весьма серьезное замечание – последние не избежали общей судьбы всего русского купечества XIX-XX веков, подавляющая часть их принадлежала к расколу, являясь экономическим фундаментом наиболее влиятельных общин Сызрани – поморских беспоповской и федосеевского толка, а также австрийского согласия.
Третий тезис нашего сообщения. Бурный экономический рост Сызрани в XIX веке приводит к появлению сословий, способных своими заказами поддержать иконописный промысел, который в свою очередь становится неотъемлемой частью экономики уезда.
Из архивных материалов известно, что уже во второй четверти XIX века купец Сидельников имел в Сызрани свой магазин, в котором продавались иконы местного производства, и стоили они дорого – от 5 до 15 рублей серебром. Иконы также можно было купить или заказать у мастеров-одиночек, либо в иконописных и иконостасных заведениях. Подобных мастеров и заведений, прямо или косвенно связанных с Сызранским уездом, по архивным сведениям за вторую половину XIX века, насчитывается не менее 70.
Иконный бизнес процветал, годовой налог за иконописное производство с мастера был небольшим и составлял 1 руб. 70 коп., зa содержание мастером рабочего или подмастерья налог составлял 1 руб. 15 коп., содержание ученика – 57 коп. (из «Книги Сызранской ремесленной управы на записку прихода и расхода сумм городских доходов по каретному и столярному цеху»). В то время работа над иконостасом, «с его покраской и позолотой в некоторых местах резьбы и карнизов золотом на гульфарбу» стоила 300 руб. А трехлетний контракт на обучение ученика с содержанием стоил от 100 до 150 рублей.
В целом иконописание в Сызранском уезде носило заказной характер, о чем свидетельствуют изображения патрональных (тезоименных) святых на полях большинства икон. Подавляющее число мастеров уезда принадлежало к общине поморцев-беспоповцев, приемлющих браки, однако сызранское иконописание само по себе не было явлением внутриконфессиональным. Иконописцы выполняли заказы также для старообрядцев австрийского согласия, для единоверцев и для господствующей церкви.
Из рапорта от 2 октября 1886 года благочинного Л. Павпертова епископу Симбирскому и Сызранскому Варсонофию по поводу вновь отстроенной церкви Казанской Богоматери в с. Батраки Сызранского уезда: «… иконостас и иконы поставлены. Лики в иконах написаны не согласно представляемым подрядчиком икон в образце, но много темнее с красноватым оттенком, как у единоверцев. На трех иконах Христа Спасителя: на горнем месте в алтаре, по правую сторону царских врат, над аркую в трапезе, и на двух иконах святителей на клиросах в нижнем ярусе иконостаса, перстосложение благословляющей руки не вполне православное, большой перст присоединен к концам двух малых перстов и не выражает ХС. При осмотре мною храма и иконостаса было более пятидесяти человек прихожан православных и несколько раскольников, и все единогласно высказали, что иконы так написаны по их желанию и им очень кажутся, и просили меня ходатайствовать перед Вашим Преосвященством об оставлении ико¬ностаса в этом виде. Если Вашему Преосвященству благоугодно будет сделать им снисхождение, то церковь к освящению совершенно готова». Резолюция епископа Варсонофия гласила: «Освятить храм в желаемое прихожанами время».
Из донесения графу Орлову-Давыдову от 20 августа 1812 года, с. Старый Тукшум, Сызранский уезд, Усольская вотчина графов Орловых-Давыдовых по поводу иконописца Ивана Янова, который, «хотя и пьяница», был на хорошем счету и пользовался заслуженным авторитетом: «старотукшумский живописец нужен для писания икон и к поправлению наших живописцев, ибо он, бывши в Усолье, говорил, что все писанные иконы должны быть варбией переправлены». Кроме того, у Ивана Янова был родной брат Пётр, который писал иконы на досках греческим письмом, потому что окрестные крестьяне «больше почитали иконописное письмо, а не живописное». Братья работали вместе и были выходцами из раскола.
Настало время вновь обратиться к фигуре Давида Васильевича Попова (Порфирова).
Д.В. Попов родился 17 ноября 1822 года. 24 января (?) года зарегистрировал брак с Авдотьей (Агафьей) Ивановной Дьяконовой. Имел двух детей: дочь Александру 1847 года рождения и сына Ивана 1856 года рождения.
Из архивных документов известно, что 22 октября 1866 года сызранский полицмейстер с ратманом прибыли в дом Давида Васильевича Попова, у которого, несмотря на закрытие моленной 4 октября этого же года, вновь образовалась моленная, где совершалось богослужение. Моленная находилась в верхнем этаже отдельно построенного от главного дома флигеле. Полицмейстер, войдя в моленную, не нарушил богослужение, а допустил поморцам окончить службу, после чего приступил к действиям, начав с переписки молельцев. В комнате, кроме Попова, находилось еще 17 человек, среди них дочь Александра, жена Авдотья, братья жены Константин Иванович и Андреян Иванович Дья¬коновы. Константин Иванович Дьяконов по¬стоянно проживал в Казани, а у Попова одно время вместе со своей женой Матрёной Ивановной обучался иконописному мастерству.
Спустя год после ареста моленной Давид Васильевич был допрошен судебным следователем. На допросе Попов показал, что моленной в его доме не было, а иконы, что висели по стенам, были заказными и висели они для того, чтобы не испортились. Он также сказал, что писал эти иконы разным лицам и даже в разные города. А молился Давид Васильевич вместе со своими родственниками за умершего отца по старообрядческому канону.
Несмотря на утверждение Попова, что в доме его никогда моленной не было, суд вынес 2 апреля 1869 года суровое решение. Давид Васильевич за открытие им в доме раскольнической молельни для публичного богослужения подлежал заключению в тюрьме сроком на один год, а всё устроенное в молельне подлежало слому и продаже в пользу местного Приказа общественного призрения.
Неординарность личности Попова (Порфирова) Давида Васильевича подтвержда¬ется множеством полицейских протоколов и судебных разбирательств с его участием незаурядностью отличались и лица, его окружавшие.
Иконописец Качаев Павел Семёнович 1828 года рождения, родом из села Кивати Сенгилеевского уезда, постоянно проживал в Сызрани, был женат, имел сына.
Можно предположить, что и Павел Семёнович Качаев был личностью незаурядной, с ним постоянно происходили всякие истории, о которых остались сведения в архивных документах. То Качаев за сбыт фальшивого кредитного билета содержался па приговору мирового судьи полтора месяца в тюрьме, то его обвинили в подделке и сбыте фальшивой серебряной монеты. Ha допросе же Качаев себя виновным не признал. Он сказал, что у него делали обыски отобрали вещи, которые служили ему для иконописания, а не для подделки монеты, как его в этом подозревали.
16 августа 1888 года Павел Семёнов Качаев попал в новую историю. В тот день он оказался в гостинице, которая находилась в доме Самариных по Большой Монастырской улице. Гостиница состояла из двух залов и небольшой комнатки для желавших уединения. В переднем углу этой комнатки висел образ в трех лицах – Святого Николая Чудотворца, Исуса Христа и Божией Матери, а на другой – висели картины обнаженных женщин во весь рост одна была изображена лицом к зрителю, другая – спиной.
Будто бы Качаев, показывая собравшимся (в комнате было человек пять-шесть гостей) икону, говорил, что образ написан неправильно, так как на нем трехперстное сложение, поэтому он молиться на нее не будет, а лучше поклонится нагим женщинам на картинах. Потом снял икону и выбросил из окна комнаты во двор.
Об этой истории стало известно помощнику пристава Сызрани. Он составил протокол случившегося и опросил свидетелей. Сам Павел Семёнович ни признавал, ни отрицал своей вины, поскольку, согласно его признанию, «был сильно выпимши» и ничего не помнил о том, что было в гостинице. Этот факт мог подтвердить иконописец Давид Васильевич Порфиров, в доме которого жил Качаев. Любопытно, что на допросе он назвал себя православным. Попов пояснил, что по делу Качаева ему ничего неизвестно, кроме того, что всю неделю до случая в гостинице, тот пьянствовал: он пил запоями, иногда недели по две – три.
Следует отметить, что икона «Седмица» (Господь Вседержитель с предстоящими), находящаяся в настоящее время в нашей коллекции, с бумажной маркой на обороте «Похвальный отзыв Казанской ремесленно-сельскохозяйственной и выставки. Качаев А.П., г. Сызрань» принадлежит кисти сына нашего героя – героя – Александра Павловича Качаева.
Вновь обратимся к семейной хронике Попова Давида 1 ноября 1865 года дочь Давида Васильевича Александра выходит замуж за Архипа Афанасьевича Бочкарева, жившего по соседству во второй части Закрымзенской слободы. Неизвестно, занимался ли сам Архип Афанасьевич иконописью – по архивным документам, он – псаломщик. 15 января 1866 года в семье Бочкарёвых появляется первенец – Александр. Всего в семье было четверо сыновей, и только Александр Архипович и Фёдор Архипович приобрели известность как иконописцы.
Есть сведения, что Александр Архипович Бочкарёв за успехи в иконописании награждался похвальным отзывом Нижегородской выставки 1896 года. А 9 сентября 1902 года он награждается Комитетом Сызранской сельскохозяйственной кустарной выставки за «предоставленные им две иконы».
После 1917 года иконописанием А.А. Бочкарёв практически не занимался. В 1929 году Александр Архипович был арестован по ложному обвинению и сослан на временное поселение в Архангельскую губернию, село Холмогоры. Вот уж действительно ирония судьбы – иконописец, старообрядец поморского согласия возвращается к своим «духовным истокам». Скончался А.А. Бочкарёв 31 мая 1934 года, вскоре после возвращения из ссылки. В справке о смерти в графе о роде занятий значилось: «Живописец в фотоартели при мастерских ИЗО».
В нашей коллекции содержится ряд икон А.А. Бочкарёва с клеймами мастера «Иконописец А.А. Бочкарёв в Сызрани, 189… г.».
Итак, сызранское иконописание конца XVIII и XIX веков отмечено прежде всего самобытным стилем, получившим в среде старообрядцев Поволжья название «греческого», с характерным для него сдержанным колоритом, лаконичностью композиции, удлиненными пропорциями фигур, изысканной симметричностью архитектурных кулис. Иконы сызранского письма не провинциальны, они отвечают самому взыскательному вкусу ценителей иконописи. В то же время обладают типичными для своего времени признаками старообрядческой иконы – ковчег, двойная опушь по полям, среди патрональных святых на полях изображение Ангела Хранителя, торцевые стороны иконной доски залевкашены и окрашены в киноварные или вишневые тона. Для малоформатных икон доски зачастую изготавливались из кипариса.
Важнейшим формальным признаком сызранской иконы является широкая пологая лузга. В подавляющем большинстве случаев по черному фону лузги, ограниченного по краям тонкими белильными линиями, нанесен золотом или серебром орнамент, состоящий из чередующихся стилизованных цветков ромашки и завитков в форме трилистника. В отдельных случаях на пологую лузгу нанесена золотая полоса шириной 3-4 мм, ограниченная по краям тонкими бе¬лильными линиями. На иконе «Богоматерь Знамение Новгородское» из нашей коллекции и являющейся, со слов семьи, последней из написанных Александром Архиповичем Бочкарёвым, вообще отсутствует какое бы то ни было декорирование пологой лузги.
Создается впечатление, что мастера, готовившие иконные доски, в процессе работы подразумевали некий типовой декор для нанесения на лузгу, а именно «ромашка-завиток», в то время как иконописец эпизодически отклонялся от заданного стандарта.
Удлиненный шрифт, которым подписывались иконы, также весьма типичен – в нем мы обнаруживаем сходство с полууставом старопечатных книг. В рассказе о сызранской иконе обращает на себя внимание череда названий различных населенных пунктов: Сызрань, Тереньга, Старый Тукшум, Сенгилей, Корсун (Симбирская губерния), Хвалынск (Саратовская губерния), Кузнецк (Пензенская губерния) – все эти населенные пункты являются не только местом бытования крупных старообрядческих общин, что само по себе является немаловажным фактом. Главное же – в этих местах жили и писали иконы на протяжении второй половины XIX века замечательные мастера из числа тех 70 мастеров-одиночек и иконописных заведений, отмеченных нами. И дело не в том, что все эти населенные пункты соседствовали территориально, главное – все они представляют собой географию сызранской иконы.
Настоящим сообщением мы надеемся приподнять полог анонимности над замечательным явлением русской художественной культуры, интерпретируемым до последнего времени главными музеями страны, как «Палех (?)», «Мстера (?)» или обобщенно «Поволжье».
Итак, приглашаем к знакомству – сызранская икона.
А.Л. Кириков
Литература
Г.П. Демьянов. Путеводитель по Волге. Изд. десятое. 1905 г.
Н.П. Кондаков. Византийские церкви и памятники Константинополя. М. Индрик, 2006 г.
ГАУО, ф. 117, оп. 7.
ГАУО, ф. 1,оп. 70.
ГАУО, ф. 134, оп. 7.